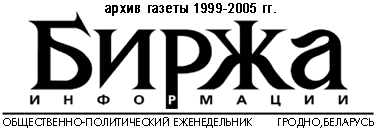Спорт
Николай ДРАНЬКО
 в книге Василия САРЫЧЕВА ”МИГ – И СУДЬБА” (продолжение)
в книге Василия САРЫЧЕВА ”МИГ – И СУДЬБА” (продолжение)
Начало 30-х. На главной площади польского в тот период Бреста финиширует не признанный потом советскими справочниками первый белорус-олимпиец Николай Дранько. Снимок напитан ароматом времени – одинакового для тогдашнего Гродно, Бреста, Белостока... Не обойдите вниманием головные уборы – кепки, шляпы, гимназические фуражки с кокардами, котелок, наконец, по-тогдашнему "мэлёник" (от "мэлён" – дыня). Уникальную, не знающую аналогов плитку под ногами: в Бресте шестиугольную, в Гродно квадратную. Указывающий место действия проявляющийся позади костел.
Пройдет немного времени, и за "наше" станет признаваться лишь достигнутое под флагом СССР. Все, что было до сентября 1939 года, когда Западная Белоруссия являлась Кресами Всходними в составе панской, как потом говорили, Польши, сочтут неправильным и подлежащим забвению. Соответственно дебют белорусских спортсменов на Олимпийских Играх будут безоговорочно датировать 1952 годом.
...Это произошло в 1928 году в олимпийском Амстердаме. В велосипедной команде Польши на Играх выступил 20-летний брестчанин Николай Дранько. Пятое место, занятое в трековой гонке, сегодня было бы поднято на щит, но самому спортсмену тогда радости не принесло. Многократный победитель шоссейных и трековых гонок, чемпион и рекордсмен Польши рассчитывал на большее.
Он продолжал тренироваться, делая ставку на Лос-Анджелес (следующие Игры 1932 года), и вышел на нужный уровень по контрольным секундам (сейчас это называется лицензированием). Но с Америкой страну разделял океан, и спонсорских денег на столь дальнее путешествие для Дранько, как и для всей трековой команды, не нашлось.
В сентябре 1939-го пришли советы, и для Западной Белоруссии начался новый отсчет. Насмотревшись жизнерадостных фильмов с Любовью Орловой, наслушавшись по приемникам дивных песен, население встречало освободителей цветами и триумфальными арками. Братья по вере и языку должны были принести новую жизнь.
Они и принесли новую. Старожилы вспоминают, что магазинные полки мгновенно опустели. Закрылись бесчисленные частные магазинчики с продуктами и товарами из Праги, Варшавы, Парижа, десятки видов колбас сменились консервами и толокном. Повсеместное "пан" и "пани" с непременным сниманием шляпы (чему пролетарская культура по сей день не нашла замены: "девушка" в отношении имеющей внуков продавщицы? гражданка? товарищ?) было объявлено пережитком. Прибывшие из центральной России "восточники" насмешливо называли местных "панами".
Едва в Белостоке прошло скоропалительное Народное Собрание, проголосовавшее за воссоединение, и было оформлено вступление в СССР, как в "освобожденных" городах появился НКВД. Людей вывозили в Сибирь пачками – по мотиву происхождения, работы, юношеского членства в скаутах, крытой не соломой, а жестью крыши... Соседи, как правило, не понимали: за что? – и с ужасом ждали своей очереди. Особенно боялись ночей; перед тем как лечь спать, в каждой семье клали у подушек по узелку. Днем, услышав неподалеку горестный вопль, бабушки мчали в советские теперь школы забрать внука с урока – чтоб не вывезли по раздельности. Недолюбливавшие привилегированных польских сверстников ученики русской гимназии теперь шли на вокзал и плакали, глядя, как столыпинские товарняки увозят недавних их пересмешников на мучения или смерть.
Царил абсурд. Председателя Русского благотворительного общества, тянувшего на себе единственную на весь край частную русскую гимназию, известного в городе доктора, который жизнь положил на сохранение русского (читай – православного) духа в противовес государственной политике полонизации, – с приходом русских, которых он так ждал, сгноили в тюрьме. Все ключевые и мало-мальски руководящие посты заняли приехавшие "восточники", даже подпольщики КПЗБ, прошедшие польские тюрьмы и концлагерь Березы-Картузской, были объявлены вне закона и тоже познали прелесть Сибири и теперь уже советских лагерей.
Началось массовое перемещение. С востока приезжали военные и гражданские, а с ними семьи. Женщины, именовавшиеся за глаза "советками", были похожи одна на одну ситцевыми платьями, сапогами и огромными белыми платками. Поначалу они затравленно озирались в этом чужом для них мире с давно забытым в Союзе тихим мещанским укладом, ровностью отношений, незнакомыми тканями вызывающего зависть кроя... Все было здесь для них ново, но скоро начальничьи жены вполне освоились и брали на рынке неведомые в назначении красиво вышитые кружевами ночные сорочки, которые надевали на выход. Неся голову, небрежно бросали местным: "Скоро вас здесь никого не будет..." Они знали, что говорили – слышали от мужей. Полным ходом разворачивалась масштабная замена жителей. При громадном числе репрессированных и перемещенных население Западной Белоруссии, согласно статистике, в предвоенный год увеличилось...
Николаю Дранько повезло, его не отнесли к числу подозрительных либо нелояльных. Велогонщик продолжил работать тем, кем был "за польским часом", – водителем в пожарном депо. А поскольку пожарная служба относилась к ведомству Наркомата внутренних дел, автоматически стал динамовцем и защищал на треке и шоссе честь флага милицейского общества, которое автоматически защищало его.
Новая власть просуществовала в краю неполных два года – напал немец. Грянула Великая Отечественная. Для Бреста большая беда войны началась с трагедии Брестской крепости, в захлопнувшейся мышеловке которой оказались заперты три с половиной тысячи бойцов и командиров. Мобилизационный план Западного особого военного округа не предусматривал обороны крепости, в случае войны личный состав, за исключением двух подразделений, должен был покинуть цитадель и двигаться в установленные районы сосредоточения. Но вышла лишь половина – остальные поневоле остались внутри.
Писатель Сергей Смирнов ударно потрудился, делая имя на безвестной тогда обороне крепости. Но зададимся вопросом: почему безвестной? Местные жители знали о многом, если не обо всем, однако молчали, наученные страшным опытом – своим и живших на этой несчастной земле предков. Нелишне задуматься, отчего среди героев Брестской крепости, за мизерным исключением, нет местных? Не потому, что их там не было – как раз напротив, в канун нападения на военные сборы для переподготовки и рытья нового укрепрайона было призвано немало приписного состава. Неразрешимая загадка для прописанного в столице исследователя. А объясняется просто: они не стали героями, потому что молчали. Те, кому посчастливилось вырваться в 41-м из окружения и избежать плена, пробирались домой – тогда как по идеологической концепции вождей им следовало погибнуть. Но справедливо ли ждать от человека, что он будет взрывать себя в каземате во имя власти, просуществовавшей неполных два года и, мягко говоря, наломавшей дров? Да, все были против немцев – чужаков и агрессоров, но имелись ли в очередной захлестнувшей край мясорубке для обывателя "свои"?
Нет, им было лучше не слыть героями, а просто жить. И они были житейски правы – герои-то, оставшись в живых ценой плена (куда многие попали ранеными, контуженными, не помня себя), после освобождения проходили через так называемые фильтрационные лагеря, где следователи СМЕРШа задавали один вопрос: "Почему ты не застрелился?", – а далее шли этапом в Сибирь, Казахстан, на Соловки. Сталин и воинский Устав не признавали плена, плен был преступлением и позором. Кого-то из местных еще до угона в сторону Польши выкупали из-за проволоки за продукты жены, доказывая немецким офицерам конвоя, что их мужей взяли случайно. Но и чудом спасенному, не побывавшему в плену, предстояло жить с клеймом другой графы: "Проживал на временно оккупированной территории". И такому защитнику крепости пришлось бы объяснять следователю, где он, "шкура", был всю войну, "когда страна проливала кровь", – и что было ответить тому, кто не хотел слушать?
Гнетущая жизнь в условиях оккупации, угоны в Германию, наконец, освобождение, которого ждали и боялись, хорошо помня первый приход советов. Не уехавших, но внутренне не согласных, или спасавших семью от голода работой ("на немца!"), или просто попавших под жернов энкавэдистских разнарядок снова ждали вывоз, принудиловка колхозов, репрессии...
...Николай Дранько и в советские послевоенные времена остался личностью незаурядной. Основал в Бресте знаменитую велосипедную ДЮСШ, выводя воспитанников на высокую орбиту. Еще до войны один из первых его учеников Евгений Малец стал чемпионом СССР. Когда встал вопрос о переходе на работу в спортшколу, Дранько вызвали в органы и напомнили оккупационное прошлое. Спортсмен обещал, что, работая с детьми, динамовского общества не покинет. Его вправду хватило на то и другое, более полусотни воспитанников вышли в призеры союзных первенств, свыше двухсот отличились на республиканских соревнованиях. Дранько дважды пытались представить к званию "Заслуженный тренер СССР" – оба раза союзные чиновники заворачивали документы по причинам анкетного характера.
Будучи директором велошколы, Николай Васильевич на огромной, во всю стену, карте флажками отмечал достижения воспитанников. При нем школа получала по подписке не только освещавший внутренние гонки "Физкультурник Белоруссии", но и польский "Спортовец" – уже в 50-е Дранько ориентировал учеников на "Джиро д'Италия", "Тур де Франс"... Наставник не изменял велосипеду в быту, не признавая городского транспорта, сам до пятидесяти лет участвовал в соревнованиях, а во время тренировок крутил педали наравне с воспитанниками почти до старости. Он передал в дар школе раритетные велосипеды довоенных фирм Германии, США, Англии, Франции, Чехии, на которых участвовал в многочисленных гонках, подписывая с производителями контракт, и до последнего дня мечтал построить в городе трек.
Не раз готовившего команду ЦС "Динамо", Дранько знали в Москве и как-то предложили написать книгу о велоспорте, включая польские времена, – в идеологически выдержанном ключе. "А как потом людям в глаза смотреть?" – спросил он. Ему хватало газет, эксплуатировавших тему недоезда на его вторую Олимпиаду по причине "захлестнувшей буржуазную Польшу волны национализма Пилсудского". Он морщился и ничего не рассказывал воспитанникам о своем спортивном пути – старый гонщик, подавивший когда-то страх, выжимая под сто на мокрой трассе с горы при общем старте.
Многие, да почти все молчали здесь о своем польском или оккупационном прошлом, без того живя без вины виноватыми. И молчал участник амстердамской Олимпиады Николай Васильевич Дранько о своем выдающемся пятом месте, держа в уме, что случилось это при Польше и, выходило, во славу Польши...
Ему было о чем молчать, забытому чемпиону с репутацией увлеченного тренера.