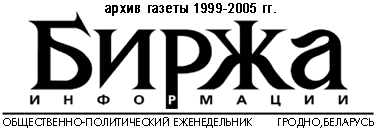История и культура
«Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет»
 От автора. "Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия". Грядущее неведомо, прошлое – в зеркалах изменчивой памяти, сиюминутно ощущаемое – жизнь – еще не осмыслено; и все воспринимается субъективно. Как трудно писать о человеке! Делаешь это бережно, но все равно что-то уронишь и кого-то ранишь, а людей приучают к скандальному, пошло-комитрагическому, к шоу-обнажениям души и плоти. Но это не в нашей лавке... В восьмом очерке авторского проекта "Имя в энциклопедии (в книге)" – рассказ о жизни и деятельности члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, заведующего лабораторией витаминов и коферментов Института биохимии НАН, доктора биологических наук, профессора Андрея МОЙСЕЁНКА, историка медицины и краеведа. Его имя запечатлено в "Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi", в "Беларускай энцыклапедыi", в европейских, мировых и СНГ изданиях "Кто есть Кто". Вадим ЖУРАВЛЕВ
От автора. "Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия". Грядущее неведомо, прошлое – в зеркалах изменчивой памяти, сиюминутно ощущаемое – жизнь – еще не осмыслено; и все воспринимается субъективно. Как трудно писать о человеке! Делаешь это бережно, но все равно что-то уронишь и кого-то ранишь, а людей приучают к скандальному, пошло-комитрагическому, к шоу-обнажениям души и плоти. Но это не в нашей лавке... В восьмом очерке авторского проекта "Имя в энциклопедии (в книге)" – рассказ о жизни и деятельности члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, заведующего лабораторией витаминов и коферментов Института биохимии НАН, доктора биологических наук, профессора Андрея МОЙСЕЁНКА, историка медицины и краеведа. Его имя запечатлено в "Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi", в "Беларускай энцыклапедыi", в европейских, мировых и СНГ изданиях "Кто есть Кто". Вадим ЖУРАВЛЕВ
”Большое видится на расстояньи”
– Это человек эпохи Возрождения, – говорит доктор биологических наук Нина Канунникова (ГрГУ). – Мойсеёнок – крупная личность и удивительно разносторонняя натура. Он хорошо разбирается в музыке и живописи, в литературе и краеведении; у него прекрасный слог. Это генератор идей. И все ему дается легко: захотел – сделал! (так мне казалось, когда я работала рядом с ним в Институте биохимии). У Мойсеёнка огромный потенциал и все подчинено идее, делу, а лозунги приходят и уходят...
Вспомним Гете, познавшего и славу, и "веселый опыт чувственной природы", и душевные кризисы, когда ропщут строки:
Что ж осталось,
если все пропало?
...Мысль! А разве это мало?
Мысли д-ра Мойсеёнка – это 17 патентов и авторских свидетельств, подтверждающих мировую новизну того, что сделано 60-летним ученым. Его идеи – это шесть монографий и сотни статей. Это 20 кандидатских и докторских диссертаций, защищенных его учениками; и еще шесть диссертаций на марше. Это своя научная школа. Есть и "между прочим". Но это "между прочим" так заметно, что академик Анатолий Свиридёнок – директор Научно-исследовательского центра проблем ресурсосбережения НАН Беларуси, отдавая должное выдающимся заслугам Мойсеёнка-ученого, пожелал юбиляру "издать книгу многолетних краеведческих изысканий".
– В период белорусского возрождения 80 – 90-ых годов Мойсеёнок – фигура знаковая. Это патриот, для которого личные амбиции на двадцать третьем месте. Он умеет работать с людьми разных политических направлений; для него главное – решить конкретную задачу, – говорит доктор исторических наук, заведующая лабораторией региональной культуры ГрГУ Светлана Куль-Сельверстова. – Я выделяю Мойсеёнка как организатора краеведческой работы и сильного историка медицины. Он много сделал для туристики Беларуси, открыл объекты, которые рассматриваются сегодня как туристические.
Архирусское и тутэйшае
Когда-то "патриарх" вандраваў под стол и лепетал: "Абу... Тёки..." – это значит молоток и гвозди ("цвiкi"). Дивные предметы видел он в руках мужиков, ладивших комнату для хирурга Георгия Мойсеёнка в Шарковщине, а позже перебравшегося в Воропаево. Это "ренесансный городок", с развалинами старого замка и графским садом Пшездецких (сия фамилия запечатлена в Фарном костеле Гродно, на памятнике Тизенгаузу). Дисенщина, г. Глубокое – родина Андрея. В его глазах – голубизна Браславских озер, а в крови архирусское, старообрядческое начало – это по материнской линии Родченковых, а по отцовской – исконно тутэйшае и тоже хлебопашеское, стожильное, православное.
В кабинете д-ра Мойсеёнка – картина, в ее раме – священник и два гимназиста, на фоне церкви. Это дед Никифор и его сыновья – близнецы Александр и Георгий. Мальчики когда-то сидели на коленях архиепископа Виленского, будущего патриарха Тихона, замученного при большевиках.
Один из прадедов А.Г. – энергичный, но полуграмотный Тодор – стал глубокским волостным старшиной. Другой прадед, Пугачевский – на все руки мастер. Это он, вернувшись из китайско-тибетской экспедиции, построил за свои деньги церковь. Кто-то из родичей возвысился до комбрига Красной Армии, кого-то наградили орденом Ленина... Отец и мать окончили Виленский университет, и с тех пор генеалогическое древо Мойсеёнков плодоносит интеллигентами. Пращуры печатного "аза" не ведали, а в доме профессора около пяти тысяч книг. Прежде в анналах Глубокского района был один "бессмертный" – академик Вацлав Ластовский, а в наши дни явился второй, в мантии члена-корреспондента...
Тьма египетская, пальцы музыканта
– Он стоял у истоков гродненской биохимической школы, был одним из первых учеников и верным соратником академика Островского, ученым секретарем Отдела регуляции обмена веществ АН БССР, директором Института биохимии. Это яркая творческая личность, по эрудиции и кругозору соизмеримая с Островским; один из ведущих витаминологов Беларуси, – говорит проректор по научной работе, доктор биологических наук Сергей Зиматкин (ГГМУ). – Научные достижения Мойсеёнка связаны с пантотеновой кислотой и разработкой препаратов, которые применяются в клинике. Его новое увлечение – проблемы нейродегенерации; мозг и витамины...
Когда д-р Мойсеёнок говорит о пантотеновой кислоте, о коферментной регуляции и коррекции метаболизма, начинаешь ощущать авитаминоз и острую интеллектуальную недостаточность: слушаешь с открытым ртом, но в голове... тьма египетская.
"Суха теория", но она понятна партнерам д-ра Мойсеёнка. Те работают в научных институтах Финляндии, России, Германии; к трудам лаборатории присматриваются американцы... А теперь – для контраста – спрыгнем с научного Олимпа и бросим взгляд на "древо жизни", воспетое Гете; оно и по сей день "пышно зеленеет".
...Хорошо шевелил мозгами школьник Мойсеёнок, но талантливо – пальцами. Как баянист он стал лауреатом республиканских конкурсов, а как волейболист – бомбардиром и капитаном. Музыке учил заслуженный деятель культуры республики Иосиф Сушко – личность драматической судьбы. Вместе с певицей Руслановой он давал яркие концерты в... лагерях: сам "сидел". На одном из фото – Сушко и Борис Кит (дисненский сюжет). Мир тесен: пересеклись-таки стежки-дорожки эмигранта академика Кита и профессора Мойсеёнка.
Туманы Пушкина, кости короля
Из лаборатории видна больница, дальше – холмы, покрытые лесом; туман. Чл.-корр. Мойсеёнок склоняет голову пред Адамом Мицкевичем, но и Пушкина "поет" вдохновенно:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
Это не из монографии "Пантотеновая кислота" – эту книгу встретишь в музее истории ГГМУ, как и портрет Мойсеёнка в разделе "Наша гордость". Пушкинские пейзажи вообразимы, как и "кости короля Станислава Понятовского". Их принесли однажды и положили на стол к. м. н. Мойсеёнка (медицинскую диссертацию он защищал в Вильнюсском университете): костей прямоходящих там не оказалось...
– Он изучает жизнь и деятельность отдельных ученых и врачей, – говорит зампред Гродненского научного общества историков медицины, кандидат медицинских наук Федор Игнатович (ГГМУ). – Андрей Георгиевич собрал очень большой материал о судьбах белорусского медицинского зарубежья, этому способствовали поездки в Германию, в США. Он активно участвовал в создании гродненской аптеки-музея и передал ей лекарства довоенного периода (из архивов отца); и стал полезным республиканскому музею истории медицины.
В конце 80-ых Мойсеёнка избрали председателем краеведческой ассоциации. Ему близки просветительские идеи профессора М. Ткачева, клуба "Паходня". Он пишет в "Краезнаўчую газету", в журнал "Свiцязь", в "Чырвоную змену"... После краха КПСС Мойсеёнок – депутат областного Совета, чуткий дипломат, искусный оратор – склоняет колеблющихся к передаче Нового замка музею. Послушаем зампреда областного совета общества охраны памятников истории и культуры Дмитрия Олешкевича:
– Он заваливал нас идеями. Предложил установить памятник Нарбутам – установили. Заговорил о мемориальной плите в память о Грюнвальдской битве – плита появилась, вблизи Коложской церкви. Он много сделал для организации районных историко-краеведческих конференций, и сам часто выступал с докладами. Особенно популярны Браславские и Новогрудские чтения, и в этом большая заслуга Мойсеёнка.
Максимы и дорога к храму
Знакомясь с судьбами медицинского зарубежья, он столкнулся с драматическим феноменом: одни и те же лица биты и немцами, и поляками, и НКВД. "По этим признакам узнаешь белоруса", – смеется Андрей Георгиевич. Сам он рос как человек новой эпохи: революционные бури улеглись, репрессии позади; впереди – "светлое будущее".
Его энергии хватило бы на дюжину молодцев. О карьере как-то не думалось – это шло само собой, как и высшая награда ВЛКСМ (почетный знак "За трудовую доблесть"), и медаль "За трудовое отличие". Партийное нытье раздражало, но живое дело – строительство Института биохимии, наука – увлекало и плодоносило. "Свобода – это осознанная необходимость", "Практика – критерий истины" – компасные марксистские максимы, близкие Андрею Георгиевичу.
– В трудные минуты жизни обращаешься к какой-то высшей силе, но я не дошел до храмового верования, – говорит д-р Мойсеёнок. – Последние слова моего папы: "Это тебе не помешает, не повредит... Не расставайся с этим крестиком". И папа дал мне крестик, по-моему, мамин. И он прижился... (Георгий Никифорович умер в прошлом году – В. Ж.).
"По сердца горячему следу..."
Писать мемуары рано, но есть такой замысел, и даже эпиграф напрашивается:
По сердца горячему следу
Спешу бесконечной
тропинкой, –
это стихи Эдуардаса Межелайтиса, запавшие в душу Андрея Георгиевича. Ему есть о чем писать, а рассказчик он замечательный.
У профессора Мойсеёнка богатый архив, и есть у него необычные адреса переписки. Например, с художницей Нелли О’Брайн де Лесси из Аргентины, некогда жившей в Гродно (одна акварель Лесси украшает кабинет профессора). Как они встретились? А как нашел Мойсеёнок врача-поэта Рыгора Бярозку, белоруса, именем которого в США названа клиника? И что разузнал о канадце, обязавшем себя родством с Франциском Скориной (была переписка)? Что дал научный туризм в Австрию, Италию, в другие страны? И будут ли новые статьи в соавторстве с супругой Галиной Ивановной – врачом; и какое будущее прочат они внуку Владиславу? Или: почему забросил охоту на уток и как ухаживает за мамиными – воропаевского (!) происхождения – пионами из знаменитого сикоровского сада над Дисенкой?
И не только Воропаево достойно книги. Уже собран богатый материал по истории медицины Беларуси (чл.-корр. Мойсеёнок: "Я считаю своим долгом не дать умереть ИМЕНАМ"). И хорошо бы запечатлеть свой взгляд на Франциска Скорину и написать историю Гродненского медицинского университета в портретах (Андрею Георгиевичу особенно дорога почетная медаль alma mater, принятая из рук ректора Петра Гарелика). Дело за малым: сесть и написать! Но это "между прочим", а главное – в науке, в Институте биохимии – там, где "суха теория", познающая и врачующая "древо жизни".
Вадим ЖУРАВЛЕВ