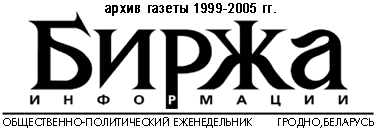| Мифы | Авторынок | Гостевая | Редакция | Контакт | Архив |
| № 274 от 08.05.2003 | |
|
Смысл жизни и бифштекс по-студенчески Первомайские праздники заставляют меня вновь и вновь задумываться об одном и том же – о смысле жизни. Я ничуть не преувеличиваю. Просто вырос я в такое время, когда ни о чем другом думать 1 мая просто не полагалось.
В первый раз на первомайскую демонстрацию мама взяла меня, когда я уже заканчивал первый класс. Я помню эту демонстрацию. Мама всю жизнь проработала на гродненской «табачке», знала всех, кто работал на фабрике, по именам – как и ее знали все. Меня опознавали как «федутина сына». Где-то в нашем семейном фотоальбоме, который мама берегла, как зеницу ока, сохранился фотоснимок с той, первой моей демонстрации: мама, я, тетя Лида Бутримович, дядя Володя Сегодник... Счастливые лица. Никакой перестройки, никаких сомнений.
Колонна формировалась у здания «табачки», недалеко от Дворца Химиков. Помню обилие транспарантов, флагов. Помню Павла Петровича Сергеева, грузного мужчину, легендарного директора «табачки». Мама рассказывала о нем позже: был человек без высшего образования, но с удивительным чувством справедливости и долга – что, собственно говоря, и отличает хорошего руководителя от плохого. Павел Петрович появился во главе колонны, что-то бодро сказал, и – двинулась колонна вперед! Мимо Дворца Химиков, куда я ходил в кукольный театр к Ольге Алексеевне Филипчик, потом в театральную студию к Константину Евгеньевичу Алехину. Мимо старой аптеки, куда я буду пацаном бегать за лекарствами для мамы, изнемогающей от гипертонии (до первого серьезного приступа остается всего два года). По Старому Мосту, мимо могилы политрука Горновых. Я выучил этот маршрут наизусть, и мне никогда не было стыдно за то, что я ходил тогда на демонстрации: я был счастлив, и все вокруг были счастливы – и дядя Володя Сегодник, и тетя Дуся Тиунчик, и тетя Лида Бутримович, и даже строгая Екатерина Семеновна Воронина, к которой мама всегда относилась с особенным уважением. Колонна шла под музыку, что-то громко пели – всегда пели! И никто ведь не заставлял петь, пели сами. Вероятно, от переполняющего счастья коллективизма.
От тех, первых моих демонстраций, я помню только это – счастливые лица людей. Это были семидесятые, почти беззаботные годы. В конце семидесятых я ходил на демонстрацию уже в школьной колонне. Нас «разбивали» по группам, давали в руки портреты членов Политбюро (Брежнева никто не хотел нести – почему-то), после чего мы шли. Эта колонна шла уже от школы № 15, по улице Гагарина, мимо магазина «Аэлита», кафе «Чебурашка», фотографии, где мы снимались для выпускного альбома, почты, где я получил первый в своей жизни гонорар из газеты «Зорька», 2-й городской больницы, где бабушка моя отработала санитаркой последние тридцать лет своей жизни (прежде, чем уйти на пенсию) и где каждый год будет лежать моя мама... И опять – через Старый Мост...
От этой демонстрации в памяти осталось, как, пройдя – какое там пройдя, промчавшись с диким неестественным криком «Ур-р-ра!!!» мимо кого-то там, добравшись до уродливого здания нового драмтеатра (его тогда еще строили, и уродства не было видно), окопавшегося напротив легкого, почти невесомого францисканского костела, все старались добежать до школьной машины, чтобы забросить в нее опостылевших членов Политбюро (разумеется, портреты – большего тогда вряд ли кто-нибудь сумел добиться). И мы были тогда счастливы именно оттого, что освобождались от этих портретов и могли пойти погулять по опустевшему Старому Мосту, с зеленеющими ветками и разноцветными шарами в руках... И главное было – пробежать под мостом, нависающим над могилой политрука Горновых, так, чтобы стоящие на нем мальчишки не попали в ваши шары из рогатки или из трубочек-плевательниц, смастеренных специально к красному дню календаря.
Мало, в принципе, нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым...
Потом я стал студентом Гродненского университета. Это были уже восьмидесятые годы. Я был на втором курсе, когда умер Брежнев. Помню, я в это даже не поверил. А кто бы поверил на моем месте: стоишь себе в книжном магазине «Ранiца», болтаешь с кем-то из продавщиц (по-моему, с Татьяной Подымовой), и вдруг врывается Нина Акимовна Воронова с криком: «Девчата, Брежнев умер!» Так не бывает! Вожди не умирают в одночасье, даже если траурный марш Шопена уже гудит у тебя в ушах! И таксист, который вез меня в университет, тоже этому не поверил... Лишь в университете поверил – и то, потому что величественный и седой ректор, Александр Васильевич Бодаков, с полными неподдельной (как тогда казалось) скорби глазами величественно входил в 226 аудиторию, где собрался цвет нашего филфака, чтобы сказать этому «цвету», какую утрату понесло международное рабочее движение...
И каждую первомайскую демонстрацию я подходил к Александру Васильевичу Бодакову, чтобы задать ему один и тот же вопрос: «В чем смысл жизни?» Александр Васильевич с высоты своего недюжинного роста чуть наклонялся ко мне и говорил каждый раз (в течение пяти лет!) одну и ту же фразу: «В данный момент, Саша, смысл жизни заключается в том, чтобы принять участие в демонстрации...» И я отвечал ему новым вопросом: «В демонстрации чего?» И он отвечал мне новым ответом: «В демонстрации чувств... Идите в колонну, мы уже двигаемся, Саша....»
А колонна и впрямь уже двигалась с места. Мы шли мимо дома-музея Элизы Ожешко, мимо памятника ей же, по мосту через Городничанку (тогда ее называли просто Вонючкой), по улице Ожешко с выходом на Советскую, где колонна, наконец, застревала и ждала своего часа. Можно было, конечно, попытаться добраться до Александра Васильевича Бодакова и задать ему следующий вопрос относительно природы демонстрируемых чувств, но, боюсь, ответ был бы по-философски обтекаемым, а после четвертого вопроса мною бы занялся уже секретарь парткома Виктор Петрович Тарантей, что было бы значительно хуже. Тем более, что природу этих самых чувств ясно выражало лицо первого секретаря обкома партии, Леонида Герасимовича Клецкова, одутловато брезгливое, величественное, и его рука, мерно покачивающаяся в воздухе в знак приветствия. Позже, уже через много лет, когда Леонида Герасимовича не было в живых, мне рассказывали, сколько «дед» сделал для Гродненщины. Я искренне в это верю, тем более, что об этом же мне рассказывала и мама. Но от тех, восьмидесятых годов, в памяти моей остались именно это лицо и эта рука, чем-то напоминающие статуэтку китайского богдыхана, стоявшую на телевизоре, по-моему, у маминой сослуживицы тети Маши Сафроновой. Ибо эти лицо и рука повторялись из года в год, как мой вопрос о смысле жизни, адресованный ректору университета. Вернее, как его ответ мне.
Они и в самом деле были своеобразным ответом. Потому что, когда (дело было, кажется в 1983 году, уже при Андропове), выполняя в театральной студии этюд под названием «демонстрация», я показал именно это – человека с мимикой и жестикуляцией первого секретаря обкома партии – Костя, Константин Евгеньевич Алехин, прекратил репетицию (согнувшись от плохо скрываемого хохота) и посоветовал мне больше никогда и никому этот этюд не «демонстрировать».
И еще одно осталось у меня в памяти с тех счастливых «застойных» времен. Это – меню в студенческой столовой. Тогда оно казалось совершенно безобразным: рулет с яйцом, бифштекс с яйцом, шницель с рисовой кашей. Сейчас я понимаю, что, возможно, смысл жизни колебался где-то посредине между лицом первого секретаря обкома партии и этим самым бифштексом, что равновесие «духовного» и «материального» как раз в ту эпоху и существовало. Просто мы этого не заметили.
А потом бифштексы закончились, и осталось только «духовное».
Бывает...
Александр ФЕДУТА |
|